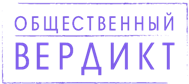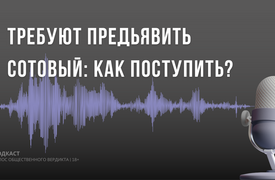«Войны раздвигают рамки допустимого насилия»
Интервью с социологом, руководителем исследовательского отдела фонда «Общественный вердикт» Асмик Новиковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ФОНД «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ФОНД «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ» | 18+
Интервью проекту «Адвокатская улица». Полная версия. Январь 2023 года
— В 2006 году вы проводили исследование о сотрудниках милиции, которых командировали в Чечню. Его итогом стала книга «Милиция между Россией и Чечней. Ветераны конфликта в российском обществе». Можете рассказать, как появилась идея такого исследования?
— На тот момент уже была закончена Вторая чеченская кампания (президент Владимир Путин заявил о фактическом окончании контртеррористической операции в январе 2006 года, официально режим КТО был прекращён в 2009 году — АУ). Говорилось, что прекращены командировки действующих сотрудников милиции в Чеченскую республику. Мы понимали, что активная стадия конфликта могла быть завершена — но в действительности командировки не прекращались. Многие, кого командировали туда в принудительном порядке, потом самостоятельно подписывали контракты, уезжали в регионы Северного Кавказа уже на год. Там происходил процесс создания местных правоохранительных органов — сотрудники из Центральной России, из Сибири ехали туда налаживать процесс работы. Возник такой милицейский «стартап».
Но сотрудники милиции оказывались не в ситуации расцвета мирной жизни в Чечне, а в ситуации вялотекущего конфликта. Было непонятно — это передышка, чтобы собрать заново силы, и стоит ждать, например, терактов, или конфликт развеялся. Очень активной фазы не было, но локализованные боевые действия продолжались. Это происходило не только в Чечне, но и в других региона Северного Кавказа. Работая в исследовательской команде, мы понимали, что уже сейчас в российские регионы вернулись на работу люди, которые имели не одну командировку в зоны боевых действий. Было известно, что некоторые отделы были фактически истощены этими командировками: получалось так, что половина сотрудников отправлялась в Чечню, а вторая героически выполняла работу за весь отдел.
Нагрузка была огромная и на тех, кто остался в своих городах, и на тех, кто на полгода отправлялся в зону боевых действий. Если человек полгода провёл на войне, говоря простым языком, он очень сильно изменился как человек. Мы понимали, что нельзя не обратить на это внимание. Что происходит с людьми, когда они возвращаются, как они обратно встраиваются в рутинную профессиональную деятельность, с какими проблемами сталкиваются, какие у них социальные карьеры после того, как они получили опыт участия в войне? Если даже у нас возникла задумчивость, то стало ясно — необходимо исследовать.
— Как проводилось исследование?
— Это было полевое исследование, мы выходили в регионы и брали неформализованные глубинные интервью с ветеранами конфликта, с их жёнами, родственниками, представителями милиции — начальниками отделов, психологами и так далее. Это было исследование, которое предполагало, что мы обращаемся к «людям травы», которые непосредственно, руками были вовлечены в контртеррористическую операцию в Чечне.
— Когда вы встречались в ходе исследования с ветеранами-милиционерами, какое впечатление они на вас составили — как на исследователя и обычного человека?
— Это было очень давно, но в памяти сохранились живые воспоминания после интервью с некоторыми респондентами. Очень яркие типажи. Конечно, для исследователя это счастье, потому что это интересная работа. Но очень часто это были растерянные люди, потому что они не могли найти себе место в мирной жизни, очень сильно искорёженные внутри, часто оскорбленные тем, с чем им приходится сталкиваться после командировок. С отсутствием программ помощи, поддержки, с предложениями от государства, которые по сути высмеивали их боевой опыт.
Один ветеран мне рассказал, что сходил в информационный центр узнать, какие есть программы для профессиональной ориентации. Человек понимал, что оказался в мирной жизни и больше не хочет работать в ППС. У него появилась мысль —– очень редкая и ценная для человека, который имеет опыт боевых действий — что надо получить другую профессию. Ему консультант предложила поучиться на парикмахера. Человек, имеющий боевой опыт, прошедший горячие точки десять раз, получивший награды, многое переживший, — и теперь ему предлагают стать парикмахером. Это его оскорбило.
Общее впечатление — государству эти люди не нужны. МВД и другие госорганы не прикладывают усилий, чтобы помочь ветеранам реинтегрироваться и в профессиональную деятельность милиции, и в социальную повседневность.
После опыта войны у них нет шансов выстроить другую жизненную траекторию. Это люди, оставаясь в мирных регионах, сидели и ждали, когда поедут обратно на войну. Неважно на какую войну.
— В одной из ваших статей как раз описана попытка построить психологическую службу МВД для ветеранов. Эта система никогда не заработала нужным образом?
— Претензий к психологической службе было много. Не берусь сказать, что происходит с ней сейчас, у меня нет свежих данных. Тогда сами психологи были очень недовольны тем, как всё устроено. Психологи понимали, что людям нужна помощь, но при этом осознавали, что репертуар профессиональных действий у них фактически отсутствует. Возможности были смехотворные, архаичные, не предполагалось никакой индивидуальной работы: просто тестирование, выявление проблем. Если после полугодовой командировки удавалось на неделю поехать в пансионат, то это было очень хорошо. Но поскольку отдел эти полгода изнывал от объёма работы, свалившегося на оставшихся сотрудников, то никто положенный отпуск не давал – ведь тут люди тоже работают на грани срыва.
Была ещё одна системная проблема (думаю, она осталась до сих пор): психологи были сотрудниками отдела кадров. Люди, пережившие опыт насилия — и в отношении себя, и как опыт применения насилия к другим людям – нуждались в помощи психолога. Но они просто не шли. Во-первых, их не воспринимали всерьёз, во-вторых, это сотрудник отдела кадров — если ты начистоту расскажешь, что тебя беспокоит, это окажется в твоём личном деле. А это высокий риск поставить жирную точку на своей карьере. Поэтому психологов не воспринимали как людей, которым можно доверять. Психологическая служба не может быть структурным подразделением отдела кадров — это абсурд.
— Если говорить о каждодневных профессиональных практиках милиции, как на них отразилась война?
— Когда человек находится на войне, ожидать опасность можно отовсюду. Постоянное напряжение, понимание, что может «прилететь» с любой стороны, очень сильно трансформирует профессиональную модель работы. Ведь хороший полицейский, находясь во время патруля на улицах города, очень быстро сканирует ситуацию. Он видит, что эти люди на грани ссоры, другие идут спокойно — а третий в растерянности. Но после войны ты мир воспринимаешь совершенно по-другому, это сильно влияло на работу. Очень сложно перестать искать и видеть опасность из каждого куста.
С моей точки зрения, была допущена ещё одна серьёзная ошибка. Когда люди возвращались после войны, из них формировали бригады ППСников. Это было связано с тем, что ОМОН был спецподразделением в структуре милиции общественной безопасности. Если нет никакого серьёзного повода в регионе — допустим, не планируется футбольный матч — то милиционеров отправляли патрулировать улицы. Это заканчивалось очень плохо: этот человек иначе разбирается с теми, кто – как он считает — нарушает общественный порядок. И разумные руководители поступали так: ветерана боевых действий ставили в группу с двумя милиционерами без боевого опыта, чтобы его сдерживали.
— Мы говорим о том, что боевой опыт поменял их восприятие преступников?
— Не только преступников, вообще окружающих людей. Понимаете, на войне все внутренние ресурсы мобилизованы на то, чтобы сохранить себе жизнь. Ты постоянно находишься в напряжении, ты должен быстро реагировать. Внутренняя мобилизация никуда не пропадала, когда человек оказывался в мирной жизни. Ты всегда был готов быстро переключиться в регистр нападения, защиты, применения физической силы.
— В обществе есть стереотип, что ветераны — жестокие люди.
— Обычные люди. Такие же как все. Они отличаются опытом — были участниками или свидетелями насилия, причём иногда летального, они свидетели смерти, в том числе массовой — это меняет тебя на всю жизнь, на многие вещи человек смотрит по-другому. Да, где-то стирается грань между преступником, обычным нарушителем, местным алкоголиком… И человек начинает действовать одинаково, неважно, задерживает ли он опасного преступника — или пытается добиться от пьяного, чтобы тот перестать мочиться на остановке.
Но с другой стороны, высвечиваются, заостряются важные точки в личностной системе координат: что такое плохо и хорошо, поддержка и предательство — то, что называется «боевое братство», «боевой опыт». Многие после опыта участия в военной кампании сохраняли дружбу и взаимоподдержку — мы видим это и у «афганцев».
— Вы исследовали в том числе жизненный путь после войны. В недавнем интервью вы говорили, что многих из ваших информантов уже нет в живых…
— Не совсем так. Я приводила цитату одного из ветеранов: «Люди суицидят чужими руками». Сами не могут распрощаться с собственной жизнью, но ведут такой образ жизни, что риски повышаются значительно. Люди не то чтобы погибли — их социальные карьеры часто тупиковые. Из тех людей, кто согласился принять участие в исследовании, мало кому удалось выстроить свою обычную, понятную человеческую жизнь после войны. Не получалось. Самая комфортная среда для ветеранов военных конфликтов — другой военный конфликт.
Скандалы в семьях возникали. Он пришёл с войны, он герой, жена его встречает, она ему рада, в какой-то момент она ему говорит: «Иди вынеси мусор» — и это может человека вывести из себя. Как это — он герой и «иди вынеси мусор». Он не готов к мирной жизни, он потерял полностью понимание, что такое роль отца, роль супруга. На войне у тебя одна социальная роль: ты воин, ты герой, защищаешь своих, уничтожаешь врага. А мирная жизнь же очень сложная — много разных социальных взаимодействий, везде у тебя своя роль, её нужно уметь играть. Нужно вспомнить, что такое быть дома, как работать в обычном регионе, как заботиться о детях — это сложно. Поэтому самая комфортная среда для человека, имеющего опыт войны — это другая война.
— На войне вообще есть место праву как таковому — или это антиправовой феномен?
— Если бы она была антиправовым феноменом, мы не имели бы колоссальный по содержанию и многообразию корпус международного гуманитарного права, который по-другому называется правом войны. Право есть всегда и везде, потому что это инструкция к повседневному поведению, которая сохраняет баланс личных и коллективных интересов, минимизирует вред, достигает общего блага. На войне право тоже есть, хотя не существует войн, где международное гуманитарное право соблюдалось бы полностью. Всегда есть нарушения, зачастую грубые, которые достигают уровня военных преступлений.
Кроме того, есть нечто вроде неформального кодекса чести —– что допустимо по отношению к своим и по отношению к врагу. И здесь мы видим предельное искажение того, что мы считаем правом в нормальной жизни.
— К российской судебной системе это тоже относится?
— Нельзя сказать, что российское правосудие не понимает, что такое военное преступление. Достаточно вспомнить про дело Буданова, дело Лапина, дело Ульмана.
— В идеальной ситуации право работает, военные преступники наказываются. Но разве та же война не закрепила навсегда в Чечне режим чрезвычайного положения?
— Это не война в Чечне. С моей точки зрения, это политические решения руководства страны по поводу того, каким образом обеспечить мир и стабильность , скажем так, в послевоенной Чечне. И то, что монополия на насилие была целиком и полностью делегирована на места, вплоть до попустительства в создании, по сути, параллельной армии, это вопрос к политическому руководству.
— Макс Вебер определял государство через монополию на насилие.
— Все так определяют, и монополия никуда не девается даже сейчас, когда власти очнулись и ставят на место, например, ЧВК «Вагнера». Приватизация монополии на насилие в виде вялотекущего процесса происходит с 2005 года, у нас есть большое исследование на эту тему. Началось это с появления большого числа вигилантских групп, когда задачи и полномочия полиции присвоили себе сообщества людей, которые решили, что будут сами определять, что является общественным порядком, принуждать людей к исполнению своих требований. Классический пример — «Стопхам», «Лев против». Власти долго это терпели — и даже в начале поощряли — но, когда поняли, что монополия на насилие утекает из рук, быстро всё пресекли: возбуждаются дела против самых активных вигилантов, где-то их кооптируют в общественные советы МВД. Когда власти чувствуют, что теряют управляемость над монополией на насилие, они начинают жёстко реагировать.
Парамилитарные группы, разные ЧВК тоже действуют в пределах границ, которые им позволяются. Когда они наращивают силу и пытаются перешагнуть эти границы, власть предпринимает меры, чтобы вернуть ситуацию в исходное положение. С моей точки зрения, власти крепко держат монополию на насилие, — хотя действительно контролировать её становится сложнее.
— Если говорить о влиянии «спецоперации» в Украине на правовую систему России, не происходит ли девальвация права? Сенатор Клишас недавно заявил, что «слово президента сильнее указа». Это всего лишь риторика или война приводит к обесцениванию права?
— Да, приводит, мы наблюдаем это сейчас. Обстоятельства текущего момента диктуют совершенно иные нормы. Посмотрите хотя бы на рекрутинг заключенных на войну — понятно, что бумажным оформлением создаётся видимость законности, но на самом деле это просто противоречит закону.
— Говоря о заключенных. «Общественный вердикт» много занимается темой пыток. Связаны ли войны с пытками в полиции и ФСИН?
— Практики наказания в правоохранительной среде, в том числе в тюрьмах, очень похожи на набор пыток, который присутствует всюду. Правоохранительная система их усвоила и практикует. Более подробно я говорить не готова. Но по своей работе мы знаем, что интенсивность и частота пыток в тюрьмах не зависит от того, участвует страна в вооружённом конфликте или нет. Она зависит от совершенно других вещей — главным образом от того, насколько запрет на применение пыток является фактической нормой.
Де-юре запрет есть, но фактически нормой он не является: пытки используются как инструмент решения любых задач, которые стоят перед полицией или тюремной службой.
— Существует стереотип, что из-за войны растёт преступность и уровень насилия в обществе…
— У меня нет данных. По криминальной статистике за 2022 год, опубликованной МВД, мы не видим никакого роста преступности. Пока не видим. Думаю, этот рост будет потом.
— Потому что война вырывает людей из привычной социализации?
— Потому что войны раздвигают рамки допустимого насилия. Мы это видим. То, что казалось абсолютно диким и неприемлемым, сейчас является обычным информационным поводом – как будто случилось очередное назначение. Посмотрите на случай с Нужиным — внесудебные казни фактически стали будничной историей. Ольга Романова (глава фонда «Русь сидящая», объявлена иноагентом — АУ) в интервью говорит, что известно уже о пяти десятках казней. Романова как раз понимает чудовищность всего этого, но в дискурсивном поле это звучит как часть нашей повседневности. Но ведь это нечеловеческая среда! Мы не увидели никакой реакции властей страны на случай внесудебной казни гражданина Российской Федерации.
— В материале «Медиазоны» вы сказали, что не ожидаете влияния амнистии заключённых на уровень преступности, которые поехали воевать в Украину. Просто потому, что они не вернутся.
— Думаю, что большая часть этих людей просто погибнет. А те, кто не погибнет, будут стараться попасть на другую войну.
— С чем связано это предположение, с отношением к заключённым?
— Существует много домыслов. Но мне кажется, что по той информации, которая появляется по поводу уже погибших заключённых — от освободившихся, от родственников — очень многие погибают. Часто появляются такие сообщения. Мы можем себе представить уровень латентности.
К тому же это непрофессиональные военные, жизни заключённых никто не считает. Может быть, их используют для разминирования территорий? Одно мы видим точно: армии не хватает людей, поэтому была объявлена частичная мобилизация.
— Обесценивание жизни заключённых определило решение об их вербовке?
— Такое уже было в Великую Отечественную войну. Тогда хотя бы был принят специальный указ. А сейчас приезжает некто на режимный объект, где по приговору суда содержатся люди. Приговор суда в помойку. Людей увозят на военные действия. Люди не готовы — что они могут делать? Просто числом решать военные задачи, которые перед ними ставят. Думаю, продолжительность жизни среднего заключённого в этих военных действиях — примерно две минуты.
— Это напоминает времена зарождения системы ГУЛАГа.
— А эта система никуда не девалась. Дело в том, что у нас последняя серьезная реформа тюремной службы была в 1950-е годы. После этого просто усовершенствовали то, что было: сделали ремонт, где-то парашу отделили перегородкой. Вот и вся реформа, которая длилась последние 30 лет, у нас есть отдельное исследование об этом.
Коренным образом лагерное содержание заключённых, которые являются экономической единицей, производящей что-то или работающей на значимом для страны предприятии, никуда не делось.
У нас колония — это огромное, до 5 тысяч человек, экономическое предприятие тотального контроля, где содержатся заключённые, живущие в огромных общежитиях. Это по сути лагерь. Они встали, сделали зарядку, построение и разошлись по рабочим местам. Хорошо — как бы парадоксально ни звучало — когда у заключённых есть работа. Когда её нет, то толпа слоняется по своему общежитию, и это просто плодородная почва для появления всего разнообразия девиаций, которое только может быть. По большому счёту, это массивные закрытые учреждения с казарменным режимом, с насилием как основным способом добиться от заключённого того, чего надо, с произвольным применением тюремных наказаний. Посмотрите на практику назначения ШИЗО — ведь её придумали не для Алексея Навального. У нас все заключённые находятся в такой ситуации. Абсолютно все. Те заявители, с которыми работает наш фонд, у них в личных делах по 20 ШИЗО, по 50 ШИЗО… Так устроена эта тюремная система. Управлять большим числом заключённых они не умеют и не хотят.
— Сейчас в Украину тоже отправляли многих Росгвардейцев и полицейских. Что с ними будет после войны?
— То же самое, что и после Чеченской, если выживут.
— Тотальная неустроенность в жизни?
— Да. А какие у нас есть основания думать по-другому?
— И как война в Украине скажется на правоохранительной системе?
— По опыту того, что происходило с правоохранительной системой после двух Чеченских кампаний, мы можем ожидать депрофессионализации работы полиции и Росгвардии, рост насилия в отношении граждан. Потому что если это сотрудник, который вступает в контакт с гражданами и имеющий опыт боевых действий, он должен пройти программы реабилитации и реинтеграции. Вы видели недавно, как в Москве под Новый год задерживали тех, кто пускал фейерверки? Это выглядело как тренировочное мероприятие спецназа.
— А что будет с теми заключёнными, кто всё-таки вернётся с войны и будет амнистирован?
— Надеюсь, что они смогут дальше существовать. Я не знаю. Здесь нужен юридический комментарий. Является ли этот заключённый комбатантом? Военный в регулярной армии имеет понятный набор прав, а заключённый — кто он? Не сможет ли потом кто-нибудь сказать, что все они участвовали в войне незаконно — ведь наемничество запрещено российским законодательством? А может человек вернётся, получит обещанный большой пряник и счастливо построит свою жизнь, не будем этого исключать, будем оптимистами. Может произойти что угодно.
— Сейчас мобилизовали в том числе людей, которые не имели боевого опыта и не связаны с правоохранителями. Как это может повлиять на общество?
— За счёт частичной мобилизации около 300 тысяч гражданского населения прямо вовлечены в военные действия – домой они вернутся с боевым опытом.
Я считаю, что по большому счёту это катастрофа. Ведь это не военные, это не люди, которые сами хотели поехать на военные действия (добровольцы и сами давно ушли). Обычное мужское население регионов. Вернутся люди после войны фактически покалеченными.
— Что можно поменять в системе, чтобы обеспечить реабилитацию тех, кто сейчас воюет в Украине?
— Есть кадровые военные — это одна история. Сотрудники правоохранительных органов — другая, а обычное гражданское население — третья. Думаю, что власти будут очень много должны всем эти людям и их семьям. И всем нам — за то, что мы оказались в этой ситуации. Медицина, психологическая поддержка, помощь в профессиональных карьерах — должна быть проведена огромная работа, чтобы все отрицательные последствия были минимизированы.
— Возможно ли в современной России проводить социологические исследования, предметом которых является работа правоохранительных органов? Как в 2006 году.
— Да, можно и нужно. Исследования проводить можно всегда. Я считаю, что социология — это универсальная отмычка для понимания того, что происходит в обществе. Всегда можно разработать такие методологические инструменты, которые позволят работать в любых условиях. Очень многое можно делать, работая с цифровой информацией, — люди фактически живут онлайн.
Даже если это будем не мы, обязательно будут исследователи, появится гигантский пласт исследований. Я очень на это рассчитываю.